
«О сказках можно говорить часами»: в открытом лектории «Диалог культур» рассказали о корнях и эволюции волшебной сказки в русской и французской культуре
14 мая в ИФЖиМКК в рамках открытого лектория «Диалог культур» прошла лекция Максима Ивченко, кандидата филологических наук, доцента кафедры перевода и информационных технологий в лингвистике. Мероприятие было посвящено волшебной сказке — её корням, эволюции и культурным пересечениям в русской и французской традициях.
Лекция началась с тезиса: волшебная сказка — это не просто детская выдумка. Это сложный культурный феномен, в котором сплетаются религиозные символы, образы народного быта, моральные уроки, языковые особенности и даже отражения социальных структур.
Первый блок лекции был посвящен сюжетам — основам любой сказки. Русская «По щучьему велению» и французская «Красная Шапочка» не так уж далеки друг от друга, как может показаться. Максим Владимирович подробно рассказал о кровожадной оригинальной версии «Красной Шапочки» из сборника Шарля Перро, где ни охотника, ни спасения нет: бабушка и девочка погибают, а волк — каннибал и хитрец. Удивительно, но в народной версии встречались даже волшебные помощники: говорящая кошка и дверной колокольчик, пытавшиеся предупредить девочку.
«У бабушки на двери в этой версии был волшебный колокольчик, который пытается предупредить Красную Шапочку. Когда она пытается позвонить, ему отрывают язычок», — рассказал спикер.
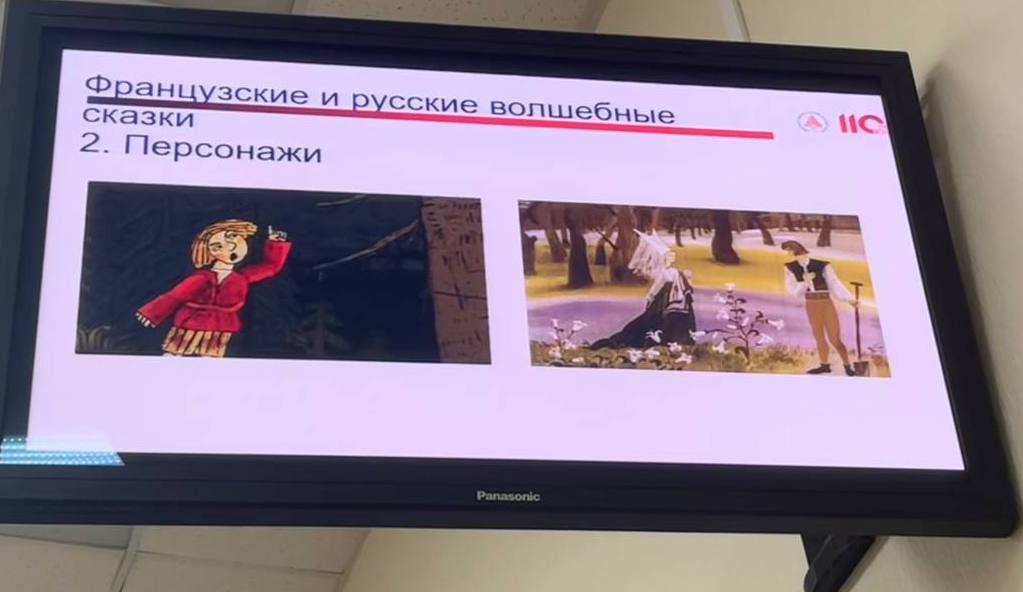
Позже Шарль Перро, стремясь придать сказке нравоучительный характер, дописал к ней «моралите» — стихотворную мораль, предостерегающую девушек от легкомысленного общения с «волками» — символичными мужчинами. В русском восприятии такой финал казался слишком суровым, и потому в поздней адаптации появился доблестный охотник.
«Понятно, что для советских детей эта мораль с этой сказкой не вяжется. Поэтому моралите постепенно из нее исчезнет», — поделился Максим Ивченко.
Русские сказки, по словам лектора, тоже не столь безобидны: вспомним ту же историю про Колобка, который в итоге тоже погибает — от хитрости Лисы. Интересно, что аналог Колобка есть и во французской традиции: там это пряничный человечек, финал которого столь же трагичен. А в африканских и восточных вариантах — бегущий блин.
Сравнение главных героев русских и французских сказок — отдельный блок. В России — Иван-дурак, во Франции — Жан-счастливчик. При этом «дурак» вовсе не глупец в медицинском смысле, а человек, мыслящий нестандартно, свободный от условностей. В сказках он отличается от обычных людей своим поведением. И благодаря встрече с волшебным помощником или магическим предметом, резко выходит на путь героя.
В одной из французских сказок Жан, напротив, более «европейски активен» — он покидает деревню, чтобы испытать судьбу, проходит через рыцарские приключения и в конце добивается благополучия, иногда даже женится на принцессе. Французский герой ближе к образу романтического рыцаря, особенно в сказках, впитавших черты куртуазной литературы.
Немаловажная часть любой сказки — волшебные помощники. В русской традиции это могут быть как живые (лошадь, птица, щука), так и неживые персонажи: веретено, горшочек, посох. Вспомним сказку «Иван-царевич и Серый Волк» с волшебным гребнем, который помогает царевне. Во Франции тоже есть подобные образы — например, талисманы, передающиеся по наследству.

Интересно, что в сказках разных народов эти помощники зачастую играют одинаковую роль: поддержка, совет, помощь в критический момент. Даже у Красной Шапочки в ранней версии были такие — говорящая кошка и дверной звоночек.
Баба-яга и Карабос, Иван и Жан, щука и волк — все они воплощают архетипы добра и зла. В русской сказке Баба-яга — фигура амбивалентная: она может быть как врагом, так и союзником. Во французской традиции зло чаще всего проявляется через коварных фей и оборотней. Например, злая фея Карабос (или её поздний аналог — Малефисента) — прямое олицетворение тьмы.
Лектор подчеркнул: архетипический конфликт добра и зла сохраняется во всех культурах, но образы и оттенки могут варьироваться. Там, где в русской сказке герой действует ради семьи, во французской — ради личной выгоды или любви. И у русских сказок есть более явная основа для подобных персонажей.
«Вспомним нашу мифологию. Куда бедному крестьянину податься? Дома сидит домовой, во дворе — дворовой, в лесу — леший, в воде — водяной. Его окружение насыщенно потусторонними силами. Французского же крестьянина ничего подобного не окружает. Максимум чего он боится — черт», — поделился Максим Владимирович.

В финале лекции прозвучала важная мысль: несмотря на адаптации, цензуру, киношные вольности и современные трактовки, волшебная сказка продолжает жить. Французский писатель Кристиан Пино, к примеру, создал свою версию «Красной Шапочки», назвав героев Каролин и Гонтар. Современный французский сказочник Гавриэль Кинца сочиняет новые сказки, вдохновляясь образами из устной традиции.
«Очень большое количество существует сказочных адаптаций, но если хотите познакомиться с народными сказками, конечно же, нужно читать первоисточники», — сказал в завершении Максим Ивченко.
Текст и фото: Мария Безотосная

